
ДИАЛОГ СО ЗВУКОМ
Содержание
1. Концепция 2. Что такое звук 3. Призма диалога, или Кто такой Сергей Филатов 4. Диалог Филатова и Звука 5. Мир скульптур 6. Заключение 7. Библиография
Концепция
Данный проект направлен на экспериментальную проверку художественного метода Сергея Филатова, который раскрывает материальную природу звука через визуализацию физических процессов — вибраций, электрических токов и магнитных полей. С помощью видеосъёмки, синхронизирующей крупные планы материальных взаимодействий с порождаемым ими звуком, мы исследуем, воспринимается ли результат как художественное высказывание или как научная демонстрация.
Цель — проверить, создаёт ли Филатов новую творческую среду, где физические явления становятся полноправными участниками диалога, или его работы остаются в рамках лабораторного эксперимента.
Что такое Звук
С точки зрения физики, звук рождается из механических колебаний, которые передаются через упругую среду — будь то воздух, вода или твердые материалы. Эти невидимые волны, достигая наших ушей, совершают удивительное преобразование: они превращаются в электрические нервные сигналы. Именно наш мозг, расшифровывая эти импульсы, создает то субъективное ощущение, которое мы и называем звуком, будь то тихая мелодия или грохот грома.
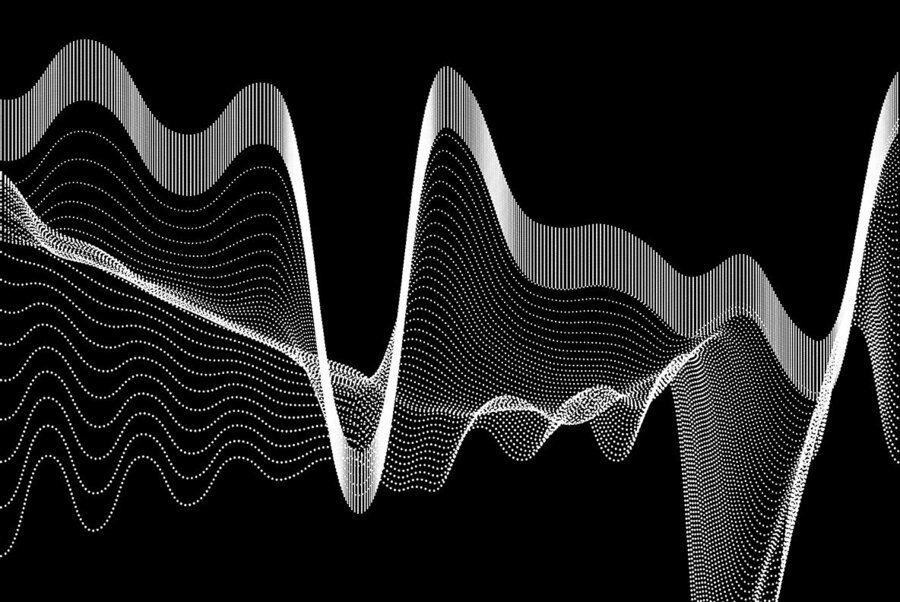
Ключевые свойства звука определяются его волновой природой. Такие параметры, как амплитуда (отвечает за громкость), частота (определяет высоту тона) и длина волны, описывают, как именно энергия колебаний распространяется в пространстве. Важно помнить, что, в отличие от света, звуку для путешествия обязательно нужна материальная среда, так как его волны — это чередующиеся зоны сжатия и разрежения вещества. Именно поэтому в безвоздушном пространстве вакуума царит полная тишина.
Призма диалога, или Кто такой Сергей Филатов

Сергей Филатов — художник и музыкант, который заставляет электричество петь. На стыке скульптуры и экспериментального звука он создает удивительные интерактивные миры, где металл звучит, а электронные схемы становятся голосом его произведений.
Филатов — активный участник музыкальной сцены экспериментальной, эмбиент и нойз-музыки. Он выступает с сольными перформансами и в коллаборациях с другими музыкантами.

Его концерты — это импровизации, рождающиеся в диалоге с уникальными инструментами. Звучание характеризуется как глубокий, медитативный электроакустический дрон, насыщенный обертонами и аналоговыми текстурами. Сотрудничал с такими музыкантами, как Владимир Мартынов (композитор), участвовал в проектах с ансамблем старинной музыки.
Диалог Сергея Филатова и Звука
На концерте «Облака обертонов» Сергей Филатов вступает в тонкий диалог с самой природой звука, где его роль — не диктатора, а чуткого соучастника. Этот процесс можно сравнить с работой алхимика или научным экспериментом: его уникальные инструменты, ЭлектроЛира и Магнетор, служат высокочувствительными проводниками в мир скрытых физических явлений.
Вместо того чтобы исполнять заранее написанную партитуру, Филатов импровизационно исследует акустические свойства пространства и материалов.
Он «задает вопросы», физически взаимодействуя с аппаратурой — меняя напряжение, поднося магниты к металлическим поверхностям, создавая цепи обратной связи. Каждое его действие — это попытка выявить и вызвать к жизни внутренний, неочевидный звуковой ландшафт, который обычно остается за гранью человеческого восприятия.
Ответом на эти «вопросы» и становятся те самые «облака обертонов» — хрупкие и пульсирующие звуковые структуры. Филатов не создает их с нуля, а бережно выстраивает из сырого, необработанного «сырья», которое предоставляет ему физическая среда. Он работает с обертонами — призрачными высшими гармониками, возникающими вокруг основного тона, — выделяя, усиливая и сплетая их в сложные, дрейфующие кластеры.
Этот процесс требует от художника не технической виртуозности, а глубокого слухового внимания и интуиции, позволяющей уловить и зафиксировать мимолетные резонансы.
Таким образом, это разговор, в котором Филатов становится переводчиком с языка материи: он слышит её «голос» в виде электрических шумов, электромагнитных вибраций и акустических резонансов и помогает этим явлениям обрести художественную форму, превращая хаотические процессы в парящую и медитативную звуковую архитектуру.
Мир Скульптур
Мир скульптур Сергея Филатова — это не просто синтез звука и формы, а создание особой экосистемы, где материя обретает голос. Художник отказывается от роли композитора в традиционном понимании, становясь скорее архитектором условий для диалога. В его работах звук не накладывается на объект, а рождается из самой его физической сущности: электромагнитные поля процессоров становятся речью радиотрубок, вибрации струн под воздействием магнитов складываются в «облака обертонов», а тактильное взаимодействие материалов порождает ритмические паттерны.
Филатов работает как исследователь, выявляющий скрытую, «спящую» акустику металла, стекла и электричества, позволяя самим материалам стать полноправными соавторами.
Этот диалог выстраивается на грани контроля и хаоса, создавая уникальную художественную напряженность.
С одной стороны, Филатов использует точные алгоритмы и контроллеры, задающие структуру и последовательность звучания, как в работе с ансамблем «метрономов». С другой — он предоставляет пространство для непредсказуемости, прислушиваясь к собственному «характеру» материалов и элементов, которые могут откликаться с естественной неравномерностью.
В результате его скульптуры живут своей собственной, органичной жизнью: они дышат, пульсируют и ведут беседы, превращая выставочное пространство в поле для медитативного наблюдения за самой природой звука и вибрации. Зритель становится не слушателем, а свидетелем этого интимного действа, где «техника» раскрывает свою поющую, почти магическую сущность.
Parallel Touch (2019)
Двадцать механизмов, подобно расставленным в пространстве метрономам, отсчитывают каждый свой ритм, храня в нём лёгкое, живое дыхание неточности. Их медитативный рисунок рождается от соприкосновения стеклянных шаров с кварцевыми дисками — этот хрустальный диалог материалов раскрывает их сокровенную, поющую природу.
Зритель входит в диалог с этой звуковой скульптурой через постепенное погружение в ритм. Изначально он воспринимает двадцать метрономов как хаотичный набор звуков, но постепенно его слух начинает вычленять отдельные ритмические паттерны и отслеживать их взаимодействие.
Медитативное состояние возникает, когда человек перестает просто слушать и начинает слышать само время — он замечает, как «лёгкое дыхание неточности» в ритме создает живую, дышащую звуковую ткань, где нет места механическому совершенству.
Физически зритель может перемещаться между механизмами, находясь то в зоне слияния всех звуков, то выделяя отдельные «голоса». Тактильный аспект диалога проявляется через вибрации, которые передаются по полу и воздуху, буквально ощущаясь телом.
Кульминацией становится осознание, что наблюдатель — не просто сторонний слушатель, а соучастник этого хрустального диалога: его дыхание и пульс невольно синхронизируются с ритмом скульптуры, завершая преобразование физического явления в глубоко личный, почти духовный опыт.
Ротатор — 4 (2019)
Инсталляция генерирует ритм с помощью простого и элегантного жеста — перемещения постоянного магнита вблизи четырёх сенсоров. Электрический сигнал с датчиков проходит обработку (усиление и фильтрацию) и равномерно распределяется на четыре динамика, расположенные на равном расстоянии друг от друга, что создаёт эффект полного погружения в звуковое поле.
Зритель входит в диалог с этой инсталляцией через осознание жеста как звукообразующего акта. Наблюдая за движением магнита — простым, почти ритуальным жестом, — человек понимает прямую причинно-следственную связь: каждое перемещение рождает электрический импульс, который тут же преобразуется в звук.
Этот момент преодоления невидимости процесса (магнитное поле → сигнал → звук) становится первым уровнем диалога, где зритель становится свидетелем преображения материи.
На втором уровне диалог переходит в телесную фазу: благодаря квадрофоническому звучанию, ритм окружает зрителя со всех сторон, создавая эффект полного погружения. Звук перестает быть внешним объектом и начинает вибрировать в такт собственному пульсу наблюдателя. Пространство между динамиками становится резонансной камерой, где физическое тело слушателя превращается в часть звуковой системы — кости черепа, грудная клетка начинают проводить ритмические вибрации.
Кульминацией диалога становится со-творчество: зритель обнаруживает, что его перемещение в пространстве меняет акустическое восприятие, а внутреннее чувство ритма невольно синхронизируется с порождаемыми паттернами. Простой жест художника находит продолжение в телесном отклике наблюдателя, завершая превращение технического процесса в интимное переживание, где технология становится языком общения между человеком и материей.
Subtle Сonnection (2019)
Здесь музыку создаёт невидимая сила инфразвука. Четыре динамика наполняют пространство неслышными низкочастотными вибрациями, которые становятся дирижёром для лёгких скульптур из алюминия, помещённых в прозрачные чаши. Подчиняясь ритму и силе этих неощутимых волн, металлические формы приходят в движение — они танцуют, дрожат и складываются в постоянно меняющуюся звуковую картину, превращая саунд-арт в кинетическую скульптуру.
Зритель входит в диалог с этой инсталляцией через парадокс незримого воздействия. Изначально возникает ощущение чуда: алюминиевые формы в прозрачных чашах приходят в движение без видимой причины, создавая гипнотический танец материи. Этот визуальный ряд становится единственным ключом к восприятию незримого — неслышимого инфразвука, управляющего движением.
Зритель постепенно осознает, что является свидетелем визуализированного звукового поля, где колебания воздуха материализуются в пластике металла.
Физический отклик тела становится вторым уровнем диалога. Хотя инфразвук не слышен ухом, он воспринимается всем организмом — вибрации пронизывают пространство, вызывая едва уловимое изменение давления, легкую дрожь в теле, резонанс в костях. Это переводит эстетическое переживание на уровень предчувствия и интуитивного понимания, заставляя доверять не слуху, а тактильным и проприоцептивным ощущениям.
Кульминацией становится осознание себя частью этой системы: перемещаясь в пространстве, зритель меняет характеристики звукового поля, влияя на движение скульптур. Его тело становится живым датчиком, преобразующим незримые вибрации в комплексное переживание на стыке визуального, тактильного и эмоционального. Инсталляция завершает диалог преодолением границы между наблюдателем и наблюдаемым — человек понимает, что он не просто видит танец металла, а физически присутствует внутри самого звука.
Созвучие и сопричастность 2/3 (2020)
Инсталляция генерирует умиротворяющий звук, сочетающий в себе две техники. Первая — это простая мелодия, которую можно сыграть, дёргая за струны. Вторая — это создание плотных, бесконечно меняющихся звуковых слоёв, так называемых «облаков обертонов». Они возникают без прикосновения: переменное магнитное поле заставляет струны вибрировать сами по себе, производя богатый, не мелодичный шум.
Диалог зрителя с этой инсталляцией начинается с осознания двойственной природы звука. Сначала внимание привлекает знакомая, почти тактильная возможность — дёрнуть за струну и услышать ясный, предсказуемый звук. Этот простой жест создаёт иллюзию контроля, вовлекая зрителя на физическом уровне.
Но в тот момент, когда палец отпускает струну, начинается вторая, магическая часть диалога: рождаются «облака обертонов» — звуковые полотна, существующие помимо человеческого воздействия.
Зритель становится свидетелем параллельного звучания миров — управляемого и спонтанного. С одной стороны, он сам является источником мелодии через простое действие. С другой — он наблюдает, как струны продолжают жить собственной жизнью под влиянием невидимой силы магнитного поля. Это рождает особое созерцательное состояние: человек начинает прислушиваться не к отдельным нотам, а к пространству между звуками, к тому, как рукотворное и автономное сливаются в единую медитативную ткань.
Завершается диалог переходом от внешнего действия к внутреннему переживанию. Изначальное желание дёрнуть струну сменяется погружением в само звучание — наблюдением за тем, как механическое движение рождает чёткий тон, а незримая энергия — объёмные, плывущие тембры. Зритель осознает себя одновременно как причину и как зрителя, соучастника и наблюдателя, оказываясь в точке, где заканчивается физическое действие и начинается чистая вибрация, рождаемая союзом человеческого жеста и силы магнитного поля.
СоноКонтур (2018)
Эта звуковая скульптура рождает медитативные, подобные храмовым колоколам, звучания. Её сердце — четыре закреплённые на общей оси мельхиоровые чаши, каждая со своим уникальным голосом. Запрограммированный алгоритм приводит в движение специальные молоточки, которые поочерёдно касаются чаш, заставляя их вибрировать и петь. В этом диалоге металла и движения раскрывается вся глубина и тембральное богатство материала.
Диалог зрителя с этой скульптурой начинается с погружения в акустическое пространство, где звук воспринимается не как отдельные ноты, а как целостная атмосфера. Медитативные тембры, напоминающие храмовые колокола, создают ощущение сакральности и вневременности, настраивая на созерцательный лад. Слух постепенно учится различать четыре уникальных «голоса» мельхиоровых чаш, а их визуальная композиция на общей оси помогает глазу следить за источником каждого звукового слоя, соединяя визуальное и аудиальное восприятие в единый поток.
Физическое присутствие усиливает диалог: зритель может менять позицию в пространстве, открывая для себя разные акустические перспективы — от слияния всех звуков в хор до фокусировки на отдельной чаше.
Наблюдение за работой молоточков добавляет тактильно-визуальную связь — видимое движение рождает звук, что создает ощущение прозрачности и понятности процесса, несмотря на его алгоритмическую природу.
Кульминацией становится осознание материальности звука — как холодный металл обретает голос, вибрирует и «дышит». Алгоритм, управляющий молоточками, превращается в посредника в этом диалоге, а зритель — в соучастника, который не управляет процессом, но внимает ему, открывая для себя скрытую поэзию металла, раскрывающуюся в каждом чистом, долго длящемся звоне.
Диалоги (2019)
Алгоритмическая скульптура, взывающая к душам машин. Две радиотрубки, отлученные от мира человеческих голосов, ныне ведут тихую беседу на забытом языке — шепоте электромагнитных полей своих процессоров. Их незримые импульсы, уловленные чуткими датчиками, обретают голос в акустическом пространстве, рождая хрупкую звуковую партитуру. Ритм этого диалога подчиняется неумолимой логике контроллера — безмолвного дирижера, чей алгоритм определяет длительность каждой реплики и паузы, выстраивая стройную поэму из электронных вздохов.
Диалог зрителя с этой скульптурой начинается с ощущения присутствия при таинстве — наблюдения за беседой, происходящей на пороге человеческого восприятия. Две радиотрубки, лишенные своего утилитарного прошлого, превращаются в медиумов, передающих скрытую жизнь машин.
Изначально зритель становится свидетелем-расшифровщиком, пытающимся уловить логику в кажущемся хаосе щелчков, шумов и свистов, рожденных из электромагнитных полей.
Постепенно слух начинает улавливать ритмическую структуру, алгоритмическую поэзию, где паузы становятся столь же значимыми, как и звуки. Осознание, что у этой беседы есть невидимый дирижер — контроллер, — переносит диалог на метафизический уровень. Зритель начинает воспринимать не просто звуки, а эмоциональную окраску этих «электронных вздохов» — тоску, спокойствие или напряжение, прочитывая в абстрактной звуковой партитуре историю отчужденных технологий, обретших голос.
Кульминацией становится внутреннее созвучие: механический ритм скульптуры неожиданно вступает в резонанс с собственным пульсом и дыханием зрителя. В этот момент технология перестает быть чужеродной, превращаясь в зеркало собственной человеческой ритмики. Завершая диалог, зритель уносит с собой ощущение, что стал участником не просто арт-перформанса, а глубокого разговора о памяти материалов и душе, скрытой в самых бездушных, на первый взгляд, механизмах.
Заключение
Таким образом, творчество Сергея Филатова доводит до логического предела фундаментальный вопрос о природе искусства, возникающий при столкновении с его работами. Он намеренно ставит зрителя в положение слушателя, который не может однозначно определить: является ли звук результатом художественного высказывания или же всего лишь документальным свидетельством физического процесса.
Однако, задаваясь этим вопросом, мы и попадаем в самую суть его метода.
Филатов не просто демонстрирует акустические явления — он выстраивает для них особый контекст, где эстетическое переживание рождается из прямого контакта с «голосом» материи, будь то электромагнитное поле процессора или вибрация металлической струны.
Следовательно, художник не стирает границу между физикой и творчеством, а раскрывает их изначальную взаимосвязь. В его работах чистая физика не заканчивается — она становится языком и материалом для диалога.
Филатов выступает не единоличным творцом, а соучастником, инициатором этого диалога, в котором силы природы и технологии обретают возможность высказаться.
Момент, когда вибрация или электрический импульс осознаются нами как нечто обладающее выразительностью и смыслом, и есть тот самый миг, где рождается подлинное со-творчество, превращающее лабораторный опыт в глубокое художественное высказывание.



