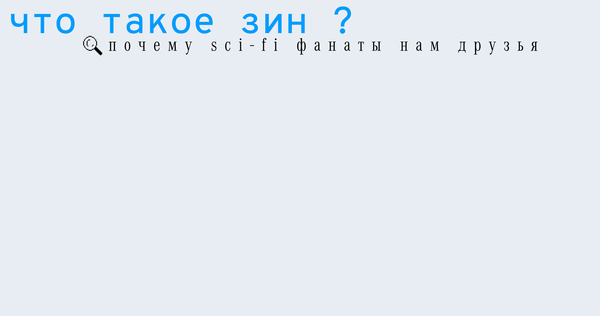«Маска Горького»
ОЧЕРК: «На сцене Горького. История Русского драмтеатра Ташкента»
Октябрь 1934 года. Ташкент пока ещё не столица советского модернизма — это будет позже, после землетрясения 1966-го. Сейчас это город, где переплетаются восточные базары, колониальные казармы и новые советские строения. Именно сюда, в центр Ташкента, на улицу Самарканд Дарвоза, на сцену только что отстроенного театра, приходит премьера.
21 октября 1934 года — рождение легенды. Театр учреждают два человека: Василий Александрович Чиркин, художественный руководитель, и Михаил Карлович Вулконский, директор. На сцене разыгрывается пьеса Леонида Славина «Интервенция» — острая, политически заряженная драма, отражающая дух советской эпохи. Выбор первого спектакля не случаен: театр рождается как проповедник идей, как голос общественной совести.
В то время в Москве уже бушует театральная жизнь. Московский художественный театр, где работал Станиславский, уже прославил русскую драму. Максим Горький, чьё имя вскоре получит театр, уже покойник (умер в 1936 году), но его наследие живо: революционный дух, обличение социального зла, вера в силу слова. Именно этой традицией вдохновляется ташкентский театр.
1936 год — переломный. Театру присваивается имя Максима Горького. Это не просто честь; это — культурный манифест. Театр становится хранителем русской драматической классики на узбекской земле. Репертуар насыщается: пьесы Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Грибоедова, Островского. На сцене звучит Чехов, играет Шекспир. Но театр не закрывается в русской классике — он открывается узбекским авторам. Хамза, Алишер Навои, Сафаров — их пьесы ставятся рядом с московскими шедеврами.
Военные годы 1941–1945. Театр становится голосом сопротивления. Актёры выступают перед бойцами, в госпиталях, на передовой. Спектакли «Русские люди» Константина Симонова и «Нашествие» Леонида Леонова — это не развлечение, это вдохновение, это напоминание о том, ради чего идёт война. Каждый спектакль — акт служения.
После войны театр переживает расцвет. 1950–1960-е годы — золотой век. На сцене новаторские постановки: Маяковский («Клоп»), Арбузов («Иркутская история»). Режиссёр Ольга Чернова создаёт запоминающиеся интерпретации Теннесси Уильямса, Бертольта Брехта, Достоевского. Театр становится кузницей талантов, местом, где рождаются легендарные роли.
1967 год — ещё одна веха. Театру присвоено почётное звание академического. Это признание его вклада в русскую культуру, статус, который он носит до сих пор, как почётный знак на груди.
В 2001 году театр переезжает в новое здание, расположенное в центре современного Ташкента, на улице Зарафшан. Это новое крыло, построенное в духе советского модернизма, с его синтезом ориентализма и конструктивизма. Внутри — современные технологии сцены, комфортные кресла, но дух остаётся прежним.
Сегодня, в XXI веке, Государственный академический русский драматический театр Узбекистана остаётся культурным мостом. На его сцене русская и узбекская культуры поют в унисон. Театр ставит произведения современных авторов, организует международные проекты (как знаменитый проект «Сердца четырёх», объединивший театры Ташкента, Самарканда и Ферганы). Каждый спектакль — это подтверждение того, что культура не знает границ, что театр вечен, и что его голос слышен сквозь столетия.
Девяносто лет. От октябрьской премьеры 1934-го до наших дней. От пьесы об интервенции до постановок, которые говорят о нас с вами. Театр на улице Самарканд Дарвоза живёт, дышит, рождает новые истории. И каждый вечер, когда гаснет свет в зале и зажигаются прожекторы на сцене, рождается чудо — чудо театра, чудо встречи людей через искусство, чудо того, что человеческое слово может изменить мир.
ЛОГЛАЙН
Молодая театральная актриса, пытаясь спасти спектакль в ночь премьеры 1934 года, находит старую маску Максима Горького в подвале театра и понимает, что некоторые роли мы не выбираем, а они выбирают нас.
ЛЕГЕНДА: «Маска Горького»
Ночь на 21 октября 1934 года.
Ташкент ещё дремлет, но в театре, что стоит на улице Самарканд Дарвоза, пульсирует жизнь. Это знаменательная ночь перед рождением легенды, хотя никто об этом пока не знает.
Юная Нора спешит по коридору театра, её красное платье развевается, как флаг будущей революции. Ей всего двадцать три года, и это должна быть её самая важная ночь — главная роль в «Интервенции» Славина. Интеллигентка, женщина, которая верит в идеалы революции и по итогу теряет всё. В этой роли решается судьба. И не только персонажа, но и артистки.
Вот только главный режиссёр Александр Разумовский только что объявил: примадонна Катерина болеет. Высокая температура, свидетельствующая о гриппе, велит лежать в постели. Катастрофа вселенского масштаба. Премьера уже через пять часов, а главной актрисы как ни бывало. Спектакль срывается. Театр, существующий лишь несколько недель, уже грозится быть стёртым с точки на карте.
Слегка пугающая в своей аристократичной бледности Нора стоит в гримёрной, рассматривая в отражении зеркала свой костюм, висящий на вешалке, и слёзы беззвучно скатываются по её впалым щекам от безнадёжности. Катерина — звезда. У неё весомый голос, разношёрстный опыт, общественный вес имени. А Нора — никто, особенно по сравнению с примадонной. Лучше всего она поёт в ванне дома, перед зеркалом, а не перед сотнями ждущих твоего таланта или ошибки людей.
Режиссёр Разумовский ходит по театру, похожий привидение. Кажется, что его волосы поседели за эту неделю в два раза быстрее, чем должны были. Он созвал труппу охрипшим от криков голосом, и сбежавшиеся на сцену перед ним актёры стоят молча, понуро опустив головы, не смеют даже взгляд поднять. Это конец. Театр закроют, всех уволят, может быть, даже… Никто не хочет произносить это вслух.
И именно в этот момент Нора делает шаг, о котором потом будет жалеть и благодарить судьбу одновременно.
— Я сыграю роль, — несмотря на недавние слёзы, всё же твёрдо произносит она.
В зале наступает молчание. Все и каждый смотрят на неё, как на умалишённую. Они понимают: Нора молода, неопытна, у неё не было даже второстепенной роли в драматических спектаклях. Она всего лишь танцовщица, певица в какой-то захудалой опере, а здесь ведь нужна тонкая, глубокая психологическая игра. Здесь нужно понимать идеи революции и воплотить конфликт интеллигенции и новой власти.
Но Александр смотрит на неё, и в его глазах — отчаяние, в котором вспыхивает отблеск давно похороненной надежды.
— Репетируем три часа. Если не получится, мы снимаем спектакль.
Три часа. Получается, до рассвета.
Спотыкаясь о собственные ноги, не до конца уверовав в то, что она всё-таки решилась, Нора бежит вниз, в подвал театра, в тёмные кулуары, где хранятся костюмы старых спектаклей, маски и, главное, реквизит. Здесь удушающе пахнет пылью, временем, историей. Хоть и театр совсем новый, в его подвальных помещениях уже ощущается атмосфера старины, которая будет витать в далеком будущем. Здесь висит на стене маска комедии и трагедии, словно печать Уробороса, здесь лежа в гигантских сундуках мечи и кинжалы, которые не режут так, как слова, произнесённые на сцене, здесь ощущаются те жизни, которые актёры проживали на чужих сценах.
Нора ищет старый дневник, записанный одной из помощниц режиссёра, чтобы зачитать его до дыр. Конспект роли Катерины. Может быть, если она хотя бы выучит текст…
И тут она видит. Взгляд её цепляется будто бы невзначай, но всё равно возвращается, будто очарованный. На старом столе, среди прочего хлама, лежит маска. Длинная, с сухой кожей, с глубокими морщинами, выражающими вселенскую печаль. Эта маска когда-то была чьим-то лицом. Нора берёт её руками, будто самую ценную реликвию, и её охватывает странное ощущение.
На внутренней стороне маски выцветшие буквы: «М. Горький. 1902».
Нора не верит своим глазам. Маска самого Максима Горького? Такого не может быть. Где же театр её нашёл? Может быть, это подделка? Но нет же — буквы слишком старые, чтобы не быть настоящими.
Она держит маску в руках, и её пальцы дрожат, будто тремором охваченные. Горький. Писатель, революционер, человек, чьё имя театр получит через два года. Гений, который писал о тех, кто потерял всё, кто жил на дне общества, кто кричал о несправедливости.
Недолго обдумывая внезапный порыв, Нора надевает маску.
Это звучит глупо, но в подвале театра, в три часа ночи, когда небо над Ташкентом ещё чернело перед рассветом, маска прилипает к её лицо, как если бы она была её собственным лицом всегда. Эта вторая кожа, эта чужая история, эти чужие морщины…
И тут происходит чудо.
Нора закрывает глаза, и она больше не Нора. Она — интеллигентка из пьесы Славина. Она — женщина, которая верила в лучшее, но теперь видит, что её мир рушится. Она ощущает ту боль, которую в силу своего непонимания и неопытности не могла ощутить несколько часов назад. Она становится голосом тех, кто молчит. Она становится личной совестью каждого, кто будет смотреть спектакль.
Когда режиссёр Разумовский видит её в три утра в репетиционном зале, он спрашивает:
— Что это с тобой, Волкова?
Нора не объясняет про маску ничего, утаивая этот секрет лишь для самой себя. Она будто говорит не своим голосом:
— Я готова.
И когда занавес поднимается в семь вечера, и в зале сидят критики и толпа любопытных ташкентцев, происходит то, что после станет театральной легендой, которые зеваки будут передавать из уст в уста.
Нора выходит на сцену, и её голос звучит так, как будто из земли восстаёт дух. Её движения точны, а речи полны смысла. Её слёзы — это не актёрская игра, а искренние слёзы той, кто действительно потерял веру.
Зал замирает. Люди боятся пошевелиться. Каждый вдох и каждый выдох — это старание.
И когда спектакль заканчивается, оглушительные овации длятся по меньшей мере пятнадцать минут. Люди поднимаются со своих мест, аплодируют, да так, что ладони горят. Театральные критики рыдают в три ручья. Партийные функционеры кивают одобрительно — идеология правильная, и искусство тоже правильное.
Театр оказывается спасен.
После спектакля, когда толпа расходится, Нора спускается в подвал и возвращает маску на место, на тот же старый стол. Она снимает её медленно, как если бы снимала с себя кожу.
И маска, почти сияющая в темноте фантомным свечением, кажется ей живой. Кажется, что сам Максим Горький смотрит на неё с одобрением.
Нора решает, что никогда не расскажет эту историю. Однако спустя многие годы, когда она уже известная актриса театра на улице Самарканд Дарвоза, когда её имя знают в Узбекистане, она иногда берёт под руку почти материнским жестом молодых актёров, которые волнуются перед премьерой, ведёт их в подвал и показывает им эту самую маску.
— Это маска Горького, — говорит она. — Когда ты боишься, что не сможешь сыграть, когда ты думаешь, что у тебя ничего не получится, помни о ней. Помни, что иногда мы не выбираем роли. Роли выбирают нас. Театр выбирает нас. И если ты прислушиваешься к голосу истории, если открываешь своё сердце боли других людей, то так или иначе сыграешь правду. И лишь правду люди обязаны слышать.
Молодые актёры слушают её и кивают, хоть и наивно думают, что это просто красивая легенда.
Но театр знает правду.
Театр помнит ночь, когда маска спасла спектакль, спасла театр. Театр помнит девушку, которая надела чужую кожу и обрела в ней свою собственную душу. Театр помнит, что некоторые истории живут в его стенах дольше, чем живут люди, которые их создают.
И каждый вечер, когда прожекторы загораются на сцене театра на улице Самарканд Дарвоза, каждый вечер, когда актёры выходят на сцену, они выходят туда не одни. С ними выходят десятки поколений артистов. С ними выходит эхо голоса Максима Горького. С ними выходит и маска, секретно лежащая в подвале, маска, которая помнит, что театр — это место, где люди становятся больше, чем они есть. Это место, где история живет в самой сути каждого актёра.
И маска улыбается в кромешной тьме, ожидая следующей ночи и следующей громкой премьеры.